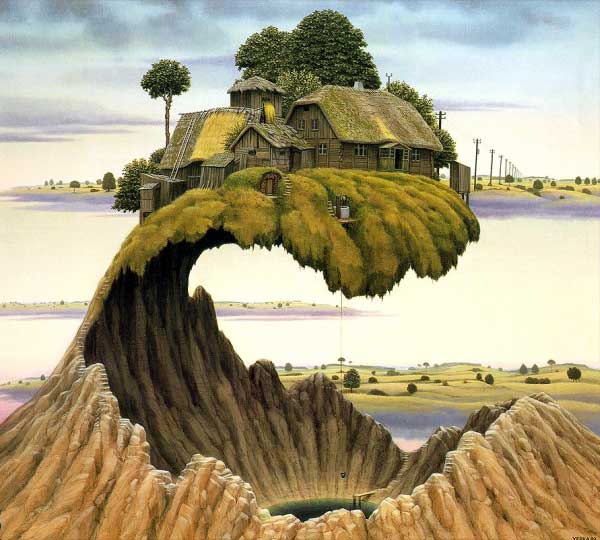
Содержание:
ВЕЛИКОЕ ЕДИНСТВО
|
Марии и Кристине |
Рождение ребенка – самая большая тайна Вселенной, великое чудо. Единство Матери и Малыша с момента зачатия – священно. Разве сможет Она без Него?! А Он без Нее?! У них одно дыхание на двоих, у них одни чувства на двоих и, конечно же, одна жизнь на двоих. И никто не в силах разорвать это Великое Единство, которое сильными корнями уходит в Вечность!
Красная, немножко помятая, она лежит в своей люльке рядом с моей кроватью. Я прислушиваюсь – дышит ли? Дыхание новорожденного почти неуловимо, оно как паутинка между Тем миром, из которого мы пришли когда-то, но забыли путь обратно, и Нашим миром. Наклоняюсь, губами прикасаюсь к бархатистой щечке – она теплая, пахнущая сладким молоком. Спи, моя радость! И я прилягу... Нет... Придвигаю к двери тумбочку, стул, еще стул: если я засну, а кто-то придет, чтобы тебя украсть, я проснусь, проснусь от грохота... Закрываю окно...
Седьмой день Ее хрупкой жизни. Мы вышли на прогулку... впервые... Мне непривычно держаться за коляску... странные чувства: и гордости, что ты мать самого милого ребенка на свете, и какого-то непонятного стеснения... Пасмурно. Ее глаза цвета сегодняшнего неба расширены от удивления: Что это за мир?! Что за предметы?! Что за пробегающие мимо существа?! Кажется, она столько хочет спросить, причмокивая губками-бантиками. Я улыбаюсь ей... Первая дождинка плюхнулась Ей на нос, Она фыркнула, сморщила свой пятачок. Но... но почему на нас так смотрит эта женщина, ведь куда-то спешила и вдруг... остановилась? А этот мужчина, проезжающий мимо? И еще женщина... и еще мужчина... Они все смотрят нас... Сердце содрогается от дурного предчувствия: они хотят отобрать Ее у меня. Руки судорожно сжимают ручку коляски, колени напрягаются и... я бегу, бегу, бегу... и плачу: «Я никому тебя не отдам, Малыш!!!»
Почти каждый Божий день где-либо случаются трагедии масштабного характера. Руины... Обезображенные тела... Слезы матерей... Ужас в глазах малышей... Стараюсь переключить телевизор, если рядом находятся дети. Но однажды Мария меня спросила: «Мама, почему умирают дети?» Я поймала на себе ее впервые серьезный взгляд, обеспокоенный, пытливый...
..........................................................................................................................................
«Мама, мы тоже умрем?»
«Мама...»
Если бы тот, кто окропил кровью 1 сентября в Беслане, заглянул в широко распахнутые, бездонные детские глаза...
ЛЕШКИН ОТЕЦ
Отца своего Лешка не помнил. Не пришлось ему почувствовать отцовской любви. Не было рядом с ним человека, которому бы старались подражать все пацаны округи, с которым можно было бы поговорить по-мужски. И зачастую Лешка с проникновенной детской завистью смотрел на ребят, взахлеб рассказывающих про своих отцов. Потому, возвращаясь домой, начинал теребить мать своими расспросами, хлюпая носом и грязным кулачком размазывая слезы по щекам.
– Ма, ма, где мой папка? – И так изо дня в день, отрывая мать от дел и путаясь у нее под ногами. Лешка пытался найти ответ на наболевший в его душе вопрос. Но женщина каждый раз глубоко вздыхала и с жалостью смотела на подрастающего сына. А однажды, когда сын вновь пристал к матери, она, потрепав вихрастый чуб Леши, шутливо ответила:
– Денег у нас нет, сынок, чтобы отца купить.
Радостная детская улыбка озарила лицо мальчика. С этого дня он стал собирать копейки, каждый день пересчитывая их и радуясь приближению исполнения своей мечты. Наконец-то и он сможет прижаться лицом к груди отца, пройти с ним гордо по улице и рассказать своим друзьям, какой у него сильный папка.
В это утро Лешка собирался отдать деньги матери, чтобы "купить отца", но она, взяв ребенка за руку повела на кладбище. Деревья таинственно перешептывались меж собой. Трава шелестела от легкого ветерка, стряхивая с себя легкие росинки.
– Вот твой папка, сынок, – остановившись около невысокого бугорка, хрипло сказала мать, еле сдерживая слезы. Лешка разжал кулачок, и копейки посыпались к его ногам. Он упал на могилку и плакал, плакал, плакал...
МОЙ МАЛЕНЬКИЙ БРАТИК
Мой Ванька, мой маленький братик, сколько бы тебе ни было лет, ты для меня всегда будешь маленьким, черноглазым чертенком-братиком. Я всегда была в ответе за тебя, чувствуя себя сильной и гордой – мне доверена важная миссия. Помнишь, как мы вместе ходили в детский сад: ты – двухлетний смешной карапуз в моряцком костюмчике и я – шестилетняя дылда с мальчишеской стрижкой и в несуразном платьице на костлявом тельце. Ты часто ходил описанный, тебя обижали, так как ты был самым маленьким (по возрасту), отбирали у тебя игрушки... Мое сердце разрывалось от обиды за тебя, ведь ты и я – одно целое, ты мой маленький братик. И однажды я избила твоего главного обидчика, зачинщика всех драк, грозу детского сада – Сашку М. Обида за тебя взорвалась в моей детской, но уже мстительной, душе, сжав кулаки, я набросилась на него, как коршун, вцепилась в белесые волосы и оттрепала, как следует. Он упал скорее всего от неожиданности: никто на него не поднимал руку, все его боялись и слушались. Я победоностно зачерпнула горсть желтого сухого песка и швырнула в его бесстыжие хулиганские глаза. Так сменилась власть в детсаде.
Дома мы играли с дворовыми ребятами в войнушку, поднимая столбы дорожной пыли. Ты всегда был победителем, я никому не позволяла тебя убивать, ведь ты – мой маленький братик.
Ванька, а помнишь, как ты пошел в первый класс с большущим портфелем и огромнейшим букетом из бордовых георгинов и разноцветных астр- садовой гордости нашей мамы. Нам с тобой родители дали монетки, чтобы мы на обед купили кекс или печенье «Аленка», но я для тебя приобрела баночку мыльных пузырей. Ты стоял в школьном коридоре и радостно выдувал перламутровые шарики, которые вальсировали в воздухе и падали на пол, разбиваясь и оставляя влажный след. Мы жалели, что это был их первый и последний танец. Подбежал старшеклассник, толкнул тебя к стенке и вырвал из твоих маленьких рук мой «подарок». И вновь обида дала мне неимоверную силу: я, кажется, запрыгнула на его спину (а этот мальчишка был самый длинный в школе), ухватила зубами его волосы и ногтями расцарапала его лицо. В кровь. Я могла бы загрызть его, потому что он обидел моего маленького братика.
Прошли мои школьные годы. Было все – радость и слезы, отличные оценки и неудовлетворительное поведение, и заслуженная, но не полученная медаль, и выпускной бал, где я поклялась никогда больше не переступить порог школы. Я сделала гигантский шаг во взрослую жизнь. Без тебя, мой маленький мальчик. Город изменил меня до неузнаваемости: раскрепостил и наплевал в душу. Но это жизнь...
Изредка я приезжала домой. Ты ждал меня на вокзале, неокрепший подросток с не по-юношески серьезным взглядом. Я удивлялась твоим новым ноткам в голосе с хрипотцой, твоей деловитости: ты чинил мотоциклы, телевизоры, магнитофоны для всей деревни... Вечером мы гуляли, сидели на разбомбленном стадионе. Ребята тебя спрашивали, указывая на меня: «Ванек, это твоя девушка?» Ты сразу подтягивался и гордо отвечал: «Да». В такие моменты я ощущала себя маленькой девочкой, рядом с которой сильный старший брат. Я радовалась, что меня почти никто не узнавал и не называл дурацким школьным прозвищем «сосулька», прицепившимся ко мне после одного Нового года, где по сценарию я исполняла роль Снежной Королевы, которая превратилась в злосчастную сосульку.
Потом тебя вырвали из моих объятий и забрали в армию. Карачаево-Черкессия. Отбитые почки. Переломанный нос. Пятигорск. Множество синяков. Астрахань. Поножовщина. Я приехала к тебе с отцом. Долго и мучительно ждали на проходной военной части. Перечитали все своды и уставы. Прогуливались поблизости, рассматривая мечеть и мусульманское кладбище. Когда же мы сварились «вкрутую», как яйца, тебя выпустили к нам. Ты подошел – длинный, худой, в старенькой выгоревшей форме и засаленной кепке. Мы обнялись. Ванька, ты уже выше меня! Ты уже сильнее меня! Втроем мы обессилено рухнули на старенький, пыльный диван. Молчали. Хотелось сказать много ласковых, ободряющих слов, чувства переполняли... «Ленка, хочешь пить?» – ты трогательно протянул мне свою жестяную фляжку. Я схватила ее дрожащими руками, как хотелось схватить тебя, мой маленький братик, и глотнула пресной почти горячей воды.
Тебя отпустили с нами на два дня. Мы гуляли по городу, рассеянно рассматривая всякие белые кремли... Мне хотелось тебя откормить и накормить на все последующие голодные дни, но ты сопротивлялся, убеждал меня, что сыт, что тебе ничего не нужно, главное, что мы рядом, а потом случайно выяснилось, что у тебя нет ни зубной пасты, ни мыла, а в бане ты терся какой-то завалявшейся тряпкой, когда у всех имелись мочалки. Я знала, почему ты нас успокаивал, от всего отказывался... Ты такой же, как я...Мы всегда жили небогато, экономя каждую копеечку, мама сама пекла хлеб, вязала нам свитера и каждое воскресенье мерзла на базаре, пытаясь продать пуховый платок, мясо или масло, чтобы на вырученные деньги что-то купить для нас. На твоих веках были гноящиеся ячмени, на теле – чирьи, а ноги запрели в кирзуках не по размеру, покрылись ранами и кровоточили, но ты не хотел даже слышать ни о каких лекарствах. «Ленка, ну не покупай, дорого же!» – умолял меня. Я плакала. Ванька, если бы в те дни я могла подарить тебе весь мир, ты все равно не принял бы этот дар, размышляя, что, возможно, этот «дар» выстрадан нашей кровью и потом. Доброе сердечко, мой маленький братик!
Шли самые скучные и самые длинные дни ожидания твоего возвращения. Но от тебя перестали приходить письма. В части сказали: «Отправили на учения». Но куда? Большой секрет... Месяц. Два. Три. Сонный почтальон опустил в ящик маленький замусоленный конвертик. «Извините, не было возможности послать письмо. Вот, один парень едет в Россию, с ним и передаю, он перешлет из своего города. Только не волнуйтесь. Со мной все хорошо. Я сейчас нахожусь...» Из конверта выпала фотография: ты – загоревший дочерна, измученный, пропыленный, а рядом машина, на которой ты возишь юных мальчишек-солдат, такая же измученная и пропыленная. На заднем фоне – горы, горы, горы... Глухие и немые свидетели жестокостей, горячее солнце ласково лижет их каждый день, милует, но каменное сердце ничто не греет. И небо, такое неприлично голубое и радостное... «Я сейчас нахожусь в Чечне» – до сих пор звучит в ушах, как приговор. Мой маленький братик, я всегда тебя защищала, но сейчас я бессильна перед этой кровожадной пастью, засасывающей в себя юные жизни. «Взрослая игра в войнушку», но никто не думает, что «солдатики» живые, «солдатики» чувствуют, у «солдатиков» есть семьи... Молюсь за тебя, а в сердце растет буйная ненависть. Страна, окропленная невинной кровью и не услышавшая стоны и слезы матерей и сестер, будет уничтожена их ненавистью!
КАК Я СТАЛА ГРИГОРИАНКОЙ
Была холодная голодная осень. Холодная – это понятно всем, а вот почему голодная – спросите вы? Я была обыкновенной студенткой, жила в обыкновенном общежитии, в комнате в углу белел самый обыкновенный холодильник «Орск», который морозил внутреннюю пустоту; по утрам я сосала лед и, попеременно, протирала им сонное измятое лицо. Все было обыкновенное, кроме того, что у меня не было даже самой обыкновенной работы, впрочем, как и многих других. Голодали все. И, если у кого-то появлялось что-то съестное, кушали тоже все. Друг за друга мы стояли стеной, голодухой закалялась наша дружба, которую мы до сих пор несем в своих гордых сердцах. Самое юморное: если кого-то из девчонок приглашали на свидание с предполагаемым (восхитительным, чудным, волшебным, замечательным!!!) ужином, она целомудренно, с придыханием, пела: «А я не одна приду, я с подругой...». Сразу вспоминается хит того времени – «Она не одна придет, а с кузнецом... А зачем нам кузнец?». Подружки вместе шли на свидание, в кафе друг друга щипали за коленки и наставляли: «Хавай больше, хотя бы на два дня наешься!»
В один из скучных воскресных дней, когда мысли были далеко от того, что писалось в нудном учебнике «Автоматизированной подготовки издательских оригиналов» (как говорится: смотришь в книгу – видишь фигу), в мою комнату с грохотом ввалился маленький, похожий на ребенка, с часто моргающими глазками, человечек – волосы дыбом, очки на кончике вздернутого носа, активно жестикулирующие руки; рот открывался и закрывался, не производя никакого звука...
– Катька, тебя кто-то преследует? – сонно спросила я, опуская учебник под кровать.
– Д-да... ужин, – разлетевшиеся слова медленно возвращались к ней, она вновь превращалась в неугомонную болтушку. – Представляешь, меня пригласили на ужин... Один мужик... солидный такой... усатый... Иваном Владимировичем зовут. Пойдешь со мной?
– Пойду – а что ж не пойти!- оживилась я, и желудок заурчал от предчувствия удовольствия. Самое мерзкое состояние, когда желудок превращается в орган, который мешает жить, и все мысли сводятся к нему, проклятому.
Мы наложили килограммы косметики на свои юные мордашки и состарились сразу лет на десять, как минимум, натянули вытертые джинсики и куртки с металлическими клепками. Имидж у нас такой был: Катька фанатела от «Алисы», а я болела «Агатой Кристи». В общем, лягушки-путешественницы собрались в путь...
В метро Катька как-то присмирела: то ли волновалась, то ли настроения не было. Но оказалось все не так просто, как я думала... Она взяла меня за руку, виновато посмотрела мне в глаза и пропищала:
– Может, не пойдем?
– Почему?
– Мне кажется, он – сутенер! – она наивно заморгала, типа, ну не виноватая я. Вот маленькая сволочь, могла бы сразу сказать, никакой ответсвенности за подругу!
– Он армянин, – Катька продолжала читать приговор. – Делает дискотеки. Вокруг него всегда так много девочек, которых он, наверно, потом продает своим клиентам.
– И из этого ты, глупая башка, сделала такой вывод?!
В общем, не буду описывать наш дальнейший «бабский» скандал, решили все-таки пойти, тем более уже пол пути было позади, посидим в кафе, а потом убежим, если предложит сесть в машину.
Он стоял около метро, ежился от холода, натянув меховую шапку до самых усов. «Какой смешной мужчина!» – подумала я, и неожиданная радость замяукала в моем сердце. Мы подошли и он сразу напал на нас, сердито-шутливо:
– Ну где вас черти носят? Я стою тут, видите ли, мерзну, а вы даже не подумали о бедном дяде Ване! – мы насторожились, приготовившись сделать ноги, но он рассмеялся так искренно, душевно, и все наше напряжение ветром сдуло. В нем было столько доброты, простоты и всяких других располагающих качеств, что хотелось только смотреть на него и глотать его шутки.
Он интересовался нашей учебой, как мы живем, на что живем, никто ли нас не обижает, чем занимаемся в свободное время, умеем ли рисовать, красиво писать, танцевать, петь... Иван Владимирович нас «не продал своим клиентам», а «купил» вместе с потрохами. Его глаза и усы постоянно смеялись, руки что-то делали, весь он был в движении. Я удивлялась, ну откуда у современного человека, отравленного грязным городским воздухом и другими проблемами личного и делового характера, берется столько энергии, задора?! А он просто жил ради других, принося букеты радости, он жил ради своей мечты, ради дела своей жизни – армяно-русской студенческой ассоциации.
Через несколько дней он оставил на вахте общаги для меня записку: «Лена 181, приезжай срочно рисовать плакат (объявление о дискотеке). Иван Владимирович» (181 – это номер квартиры в общежитии – прим. автора).
Так началась моя великая дочерняя любовь к нему, а его всепоглощающая, отцовская – ко мне. Сейчас с высоты времени я смотрю на все и думаю, что порой ему не нужна была моя мазня на плакатах. Он старался меня обеспечить какой-нибудь работой, чтобы потом за это украдкой сунуть деньги в нищий карман. Часто вечерами мы засиживались в его кабинете за чашкой кофе, он курил, красиво, медленно, задумчиво, как курят мудрые люди, и учил меня выживать в Москве. Иван Владимирович заставил меня поверить в свои силы, лепил из меня серьезного делового человека (кстати, вскоре я нашла интересную высокооплачиваемую работу по своей специальности).
Он появился в моей жизни в самый сложный, переломный, период, протянул свою крепкую руку, вытащил из трясины (столько таких, как я, провинциальных девочек, попав в большой город, идут по неверному пути).
Солнечным и радостным июльским утром (как у человека значимого в моей жизни больше не было скучных дней) я проснулась с великой мыслью и твердой уверенностью в сердце: если он мне не кровный отец, так пусть будет крестным.
Так я покрестилась в армяно-григорианской церкви.
КАК Я СЪЕЛ КАКТУС
Я проснулся от истеричного визга. Я даже не проснулся, а выпрыгнул из постели, в воздухе натянул семейные трусы и приземлился сразу на две ноги в тапочки. Орала моя благоверная. Каким зловонным ветром ее занесло?! Она неделю назад сама меня бросила, а меня засосало в трясину беспробудного пьянства. Между прочим, из-за нее, а не из-за нахлынувшей свободы, как, наверно, подумали вы. Я пил с коллегами, пил с друзьями и соседями и пил один дома, нет, я не эгоист, я пил не один, а с Васькой, моим волосато-полосатым котярой. Вы не представляете, какими очаровательными слушателями бывают коты, женщинам до них далеко. Мы понимали друг друга, я и он, два одуревших холостяка. А сейчас я, как-бы, и не холостяк совсем: на кухне орала она , моя суженая, выплевывая на меня весь свой лексикон ругательств, в котором других-то слов и не осталось – все ушло с молодостью.
Я осторожно пробрался к кухне и, спрятавшись за дверь, решил посмотреть, из-за чего у нее истерика. Наверное, я впервые за неделю увидел кухню глазами трезвого человека (еще бы, от такого рева не только протрезвеешь!!!). Место нашего чревоугодия было похоже на поле битвы: горы бутылок, обгрызанные корки хлеба, лужи непереваренной пищи (извините за подробности) и как-то странно шатающиеся из стороны в сторону наши общие друзья-прусаки. Неужели это привело ее в такой ужас?! Запой-то у меня не первый – значит, все в порядке. Ничего ее особенно расстроить не могло. И бить меня сковородкой не будут. Я осторожно высунул из-за двери сначала одурманенную голову, потом все остальное и торжественно сказал: «С возвращением, любимая!» Рванулся ее обнять, но... мой взгляд встретился с взглядом стола, где лежали аккуратно порезанные (очевидно, моих рук дело, но я, хоть убей, ничего не помню) кактусы – любимцы моей жены. Дамоклов меч, а проще сказать, Зинкина сковорода зависла над моей головой. Бежать было поздно...
КРУГОВОРОТ
Травы, кустарники, деревья мелькали в его болезненно расширенных глазах, что-то беспощадно царапало, кусало, щипало раненое тело. Он учащенно дышал, но дыхание сбивалось и терялось. Он бежал... он убегал, оставляя горячий кровавый след на яркой зелени разнотравья. Где-то, недалеко от сердца, билась скулящая боль, разливаясь слабостью по всему измодженному телу. Он слышал эту боль, он уже не чувствовал, но бежал, бежал, бежал... И травы, кустарники, деревья мелькали в его мутнеющих зрачках, почти бессознательно устремленных вперед. В голове жужжали обрывки только одной мысли – «охотник... собака... быстрее... убежать... я смогу... я силен...быстрее». Боль, наслаждаясь своей властью, резвилась в последних судорогах, бросая беглеца то в жар, то в холод. Он задыхался, но бежал...
Теплый очаг – норка, сопящие пушистые комочки – его малыши, она – любящая заботливая хлопотунья-жена мелькали в его уже помутневших глазах. Темно... невыносимо холодно и страшно... Он уже не бежал, что-то засасывало, тянуло его вперед, сжимая маетную душу. Он слышал эхо своего дыхания, но где-то там, далеко от него, позади. Ослепляющая вспышка... Удар... Измученный и жалкий, он упал к чьим-то ногам. И вдруг... наступила необыкновенная, сладкая тишина – божественное спокойствие заполнило его. Всеподчиняющий голос позвал: «Сын мой! Встань! Ты чист передо мной. Я дарую тебе другую жизнь – человеческую...»
Когда на синеющем небе погас страстный взгляд последней звезды, у охотника родился сын, крепкий, резвый мальчуган. Радостный отец повесил над его колыбелькой новенькое ружьишко. Он не знал, что оно выстрелит только единожды – в него самого!
МАША И МЕДВЕДЬ
Если бы они жили в городе – их считали весьма странной парой: слишком велика она и слишком уж мал он. Но они, слава Богу, обитали в небольшой деревушке, и никто этому контрасту не придавал особого значения. Да и невест в деревне всегда выбирали по принципу выносливости – чтобы и хозяйство могла тянуть на своих плечах, и мужа, и детей...
Именно такой и была Маша – выносливой, огромной, краснощекой и плодовитой. Вставала с первыми петухами и весь день вертелась, как белка в колесе: подоить корову, отвести на пастбище, прополоть огород, приготовить завтрак, разбудить мужа и пятерых сопливых ребятишек, одеть-накормить...
И это было только начало дня.
Муж, как и подобает любому деревенскому мужику, слегка работающему и неслегка пьющему, поколачивал жену. Поколачивал ни за что. Просто так, чтобы доказать и себе, и ей, что он мужчина . Сильный мужчина... Маша с опущенной головой покорно принимала «ласку» мужа и считала, что так и должно быть.
И так они прожили вместе около десяти лет и так же жили бы дальше, если бы не один случай. В деревню приехал цирк. Естественно, собрались все жители – на людей поглазеть, себя показать, как говорится.
Веселое было представление. Дети визжали от радости и хватались за животы, наблюдая за разноцветными клоунами. Мужики молодцевато присвистывали, не отрывая глаз от длинноногих разукрашенных девиц-помощниц. А женщины с замиранием сердца следили, как на арене мужчина кладет буйную голову в смертоносную пасть царственной особы – льва. Но далее было то, что заинтересовало абсолютно всех: мускулистый дрессировщик решил побороться с огромным бурым медведем. Мужчин охватил азарт, начались горячие споры на бутылку, кто кого... Женщины в страхе начали перешептываться – «безумец, жить, видать, ему надоело...» Но бой был в разгаре... И «безумец» победил, пожал побежденному лапу и сказал:
– Найдется ли среди вас храбрец, желающий сразиться с Михал Иванычем?!
И толпа замерла. Мужики потупили взоры, нервно затеребили кепки в руках. Подраться-то хочется, но...
– Так кто хочет побороться с медведем за сто рублей? – продолжал циркач.
Все ахнули – вышла Маша. Деловито засучила рукава, сдула русые пряди со лба и грозно направилась к сопернику. Сплелись они в смертельной схватке. Долго боролись: то он ее подминал под себя, то она его. Но, не смотря на полноту, Маша была очень гибкой, уловила момент и оседлала бурого. Дрессировщик почетно вручил женщине сто рублей. И Маша, под бурные аплодисменты и завистливые взгляды (сто рублей для деревни – немалые деньги), скрылась в толпе.
Представление закончилось. Цирк уехал.
Они молча возвращались домой: необычайно маленький он и необычайно крупная она. Возможно, в городе их считали бы странной парой, но они жили в деревне. И сегодня он гордился своей женой, сильной, выносливой и красивой. А дома, как бы между прочим, спросил: «Эх, Машка, сколько я тебя поколачивал, а ты мне даже ни разу сдачи не дала». Она опустила голову и тихо ответила: «Дать-то могла, да детей жалко, вдруг сиротами остались бы...»
Не перевелась богатырская сила на Великой Руси!
МУЗЫКА НОЧИ
Весь день дул холодный, порывистый ветер, гоняя черные тучи по небу. Полуголые деревья гнулись к земле. Но к вечеру как-то резко все утихло.
Я вышла на улицу. Ночь неожиданным теплом прикоснулась к моим щекам. Подняв глаза, я увидела, как по небу медленно ползли клочья белых облаков. Кое-где перемигивались еле заметные звездочки. Природа млела во власти полной луны. На землю ложились темные тени домов, заборов, деревьев. На речке слышалось хоровое кваканье лягушек и протяжное «у-у-у». Где-то в лесу одиноко пел соловей.
Музыку ночи нельзя было остановить. И нельзя было перестать ее слушать, попав в таинственный омут звуков.
НАСТОЯЩИЙ ПЕС
Алка была моим лучшим другом. Мы вместе разменивали свою молодость в серых стенах общаги полиграфического колледжа. Она своей всепоглощающей теплотой, хозяйственностью и деловой хваткой заменила мне, провинциальной принцессе, родную маму. Работа бурлила в алкиных руках: наша облезлая нищенская комната с единственным украшением на стенах – тараканами (причем тараканы имелись рыжие, черные и мутанты : белые и полосатые – из личных наблюдений) с каждым днем становилась все уютнее: на кроватях появились бархатные покрывальца, на полу – цветастый ковер, не персидский, конечно, но все-таки... Но самым радостным приобретением был старенький, хрипатый черно-белый «Рекорд», которому мы посвящали почти каждую ночь, любовно смотря на него (то есть, в него!). Комната наполнилась домашним теплом, которого нам так не хватало.
Однажды, по пути в чревоугодный магазин, я решила сказать Алке о своих нежных чувствах, раздиравших меня. Я порывисто схватила ее за шею, от души засосала ей щеку и выпалила:
– Аллочка, ты... ты... просто... настоящий... ... пес!
Хотела сказать «друг», но меня озарила неожиданная мысль: друзья приходят в нашу суетную жизнь и уходят, а вот собачки – самые преданные существа, которые смотрят на нас та-акими влюбленными глазами, будто мы – смысл их жизни, любимая косточка... Сказать другу ласково «пес» – это не оскорбить, а похвалить в высшей степени.
Алка заулыбалась во все тридцать два зуба, поняв мои благие намерения. Настоящие друзья чувствуют друг друга с полуслова, даже с полунамека!
Радостные и воодушевленные, мы подошли к магазину, пахнущему за версту булочками. Вдруг... подруга резко меня дернула и испуганно, распахнув почти на все лицо свои карие глаза, прошипела:
– Ленка-а, меня не пустят же туда!
– Почему? – крякнула я от удивления: мы сюда с голодухи каждый вечер
таскались, иногда что-то покупали, но чаще «питались» вкусными запахами, и всегда пропускали, а тут...
– Я подожду тебя около двери... вот здесь, а ты иди!
Я пожала плечами, мол – «как хочешь», и хотела пнуть ногой дверь, но мои глаза уперлись в грозную надпись, огромными буквами сообщавшую нам:
«С СОБАКАМИ ВХОД СТРОГО ВОСПРЕЩЕН!»
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Вот Вы, дорогой читатель, какой образ жизни ведете? Ушли в долину размышлений... Сразу мысли расползлись, как тараканы, на языке вертится волчком только «курение», «алкоголь», «безопасный секс», а я ведь не об этом... Я о сидячем и стоячем образе жизни. Замечали ли Вы, что тот, кто работает сидя, жалуется на боли в спине и геморрой; а тот, кто рабочий день проводит на ногах, страдает отеками нижних конечностей и варикозным расширением вен. Что делать??? Лежать... Пролежни появятся. Вот так все и живем – в подвешенном состоянии!
ОН И ОНА
Она ждала любви настоящей, цветущей, как сама весна в тот год. Он искал новых приключений, знакомств и совсем не верил в любовь, так как никогда не любил. В ее мечтах было что-то детское, небесное, он же жил жестокой действительностью.
В один майский вечер Судьба, развлекаясь с человеческими жизнями, заставила их посмотреть друг другу в глаза. Она влетела в его бренную жизнь, как метеор, и исчезла с раскатистым ударом грома. Он впервые страдал и мучился, ожидая новой встречи.
Наконец-то настал желанный час. Он летел на всесильных крыльях любви… А она, где-то далеко от него, весело смеялась, беззаботная, как весна, вольная, как легкий ветерок. И никто не был ей нужен, и никто не тревожил ее юное сердце. А он любил. Впервые. Именно ее. Свободную. Как дыхание мая.
ПРИДИ КО МНЕ
Поезд "Волгоград-Балашов", монотонно громыхая, вошел в полосу душной ночи, миновав знойный день и раскаленный вечер.
Я долго не могла уснуть, мучаясь от жары. В вагоне где-то слышался тихий разговор малыша с мамой, пьяный храп, шуршание газеты, в которую, наверное, была завернута селедка (запах гулял по всему вагону). Бормотание на соседней полке вызвало особый интерес. Прислушавшись, я поняла, что это молитва. Теплые слова ласкали мой слух. Я больше ничего не слышала, только "Отче наш, иже еси на небеси, да святится име твое..."
Парень, сжимая на груди крест, продолжал горячо читать молитву. В его словах было столько веры, покорности, доброты, что казалось, будто весь вагон наполнился спокойствием, Божьей любовью. Он неожиданно взглянул на меня. И, смутившись, сделал крестное знамение в моем направлении, показывая мне крестик. Его слова "приди ко мне..." вывели меня из оцепенения. Я равнодушно отвернулась.
И только через несколько лет, случайно прочитав "Новый завет", я поняла смысл и глубину его слов...
САД ПОТЕРЯННЫХ ДУШ
Я встретила ее в необыкновенно красивом саду: виноград и персики свисали над головами случайных задумчивых прохожих, подразнивая своей сладостной сочностью; среди громадных гордых камней осторожно пробирался взволнованный ручеек. О чем он пел?! О любви?! Нет, это была песть какой-то всепоглощающей печали, которая исполнялась только этим ручейком и только на этих клавишах-гальках.
На одиноком холодном камне в середине сада сидела она – высокая, красивая и благородно-седая. Белое лицо, небрежно исчерченное мелкими морщинками, было напряжено, застывшие глаза смотрели в даль, которая для меня, простой смертной, недосягаема. Вызывающе красные губы были плотно сжаты, казалось, они хранили за своим замком великую тайну. Черное платье, спорившее с ее бледным лицом, облегало грациозную стройную фигуру. Я не могла оторвать от нее взгляда, ходила кругами поблизости. Ее задумчивость передалась и мне: она думала о чем-то вечном, я – о ней. Кто она – красивая и седая, похожая на гордую королеву?! Кто она? Я искала ответ в ее глазах, ее лице, ее теле и не замечала лежащую рядом огромную сумку, набитую бутылками и остатками чей-то роскоши.
Я встретила ее в необыкновенно красивом саду, саду потерянных душ.
СТРАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ
Крестьянский день начинался с первыми лучами солнца, хотя это будет сказано не совсем точно, так как солнце встает, как известно, каждый день в разное время, дни то увеличиваются, то убывают, да и солнечные лучи мы видим не каждое утро, но для крестьян это не имело значения – они всегда просыпались около шести. С кряхтением, сладкими потягиваниями и причмокиванием они искали, чтобы покушать. Да побыстрее. Животы уже свело после голодной ночи. Сонные глазки и жадные ротики искали божественный источник пищи – грудь Матери. Они присасывались, как пиявки, и опустошали сразу две чаши. И жизнь продолжалась. Жизнь цвела солнечными днями, яркими цветами, счастливыми дождями и веселыми радугами. Такова была крестьянская доля. По утрам они балдели на солнышке с голыми животами и торчащими позеленевшими пупками (от зеленки, а вы что подумали?), сонно перебирали ручками, сладко улыбались, общаясь с ангелочками, кружившими над их головками, и о чем-то думали, думали, упорно думали. Скорее о своих проблемах насущных. А проблем у них было немало: во-первых, это питание, вкусное, сытое, теплое. И всегда вовремя, то есть через каждые три часа. Во-вторых, у них часто бывали боли в животиках, переполненных газами (особенно когда их мама, эгоистичная мама, напивалась своей любимой «кока-колы»). В-третьих, это тепло и забота, о них, о маленьких беззащитных крестьянах. Им нравилось, когда их носили на руках, показывали всякие странные вещи этого странного мира, в котором им придется жить. Их маленькие головки на тонких слабеньких шейках вертелись из стороны в сторону, глазки бегали, выхватывая из всего только самое яркое и интересное. Иногда, когда их желания не выполнялись, они выпячивали нижнюю губку и так пронзительно кричали. И сразу – все к их ногам, точнее, в их любознательные руки.
И все эти крестьяне – всего лишь один маленький чудный человечек, нежная, черноглазая девочка, моя дочь, которую зовут Кристина. А крестьяне – это ее тайное прозвище, созвучное с именем, которое я ей придумала от большой любви.
ТЫ ЗНАЛ МЕНЯ
Ты знал меня маленькой девочкой на детском велосипеде. Наивной, но безумно модной (я так думала). Целый день я меняла кружевные платья и очки, которые представляли из себя два, связанных между собой, аппетитных бублика и закреплялись на голове с помощью резинки от трусов. А еще у меня были красивейшие серьги из маминых бисерных бус, которые вешались на уши и свисали до самой груди, как «сопли» у раскрасневшегося индюка. О туфлях на каблуках уже не говорю...
Ты знал меня, но не знал, что я была влюблена в тебя, как в мужественного киногероя. Ты тогда пришел из армии. Весь такой взрослый! А я, хохоча всем детским тельцем и душой, бегала за тобой и горланила на всю околицу: «Андрей-воробей, не гоняй голубей». И подглядывала, как ты целовался со своими ровесницами, такими безобразно огромными и вульгарно накрашенными. Но я не печалилась, я знала, что придет и мое время, тогда я своего не упущу. Как же детство по-детски наивно!
Ты знал меня девушкой. Высокой. Стройной. С копной каштановых волос. Ты знал меня в пору, когда половина старшеклассников мечтала обо мне. Но они боялись... боялись приблизиться ко мне: слишком уж я отличалась от местных идеалов – невысоких пышнотелых девиц.
Ты тогда вернулся из «зоны отдыха», где успел отмотать восемь лет за изнасилование, мерзкое групповое изнасилование местной девчонки. И вдруг стал авторитетом всего «дна». Небритый, взлохмаченный, как воробей перед похолоданием (ха-ха, не зря я тебя дразнила «Андрей-воробей»), с осунувшимися плечами, ты пришел в беседку, где собиралась наша юная компания неокрепших сердец. Мы разжигали костер, щелкали семечки, пели песни под печальную гитару и рассказывали друг другу ужастики (чаще этим занималась мужская половина, чтобы до смерти перепугать женскую и, воспользовавшись положением, пойти провожать. Расчетлив все-таки юный ум!) Да, ты пришел к нам. Наши мальчики сразу как-то сконфузились, уменьшились на твоем фоне. Ты рассказывал про зону, распустив пальцы и сплевывая через дырку отсутствующего зуба. Нашелся, крутой! Только совсем глупых можно удивить такими росказнями! А потом ты спросил, указывая на меня (бескультурие какое!): «Кто это?» Я, в силу своей благовоспитанности (спасибо родителям!), представилась. И ушла. Ты удивленно присвистнул мне вослед. Потом мне передали, что ты сказал, продолжая отвратительно сплевывать: «Я женюсь на ней! После ее выпускного бала» Но на следующий день после бала у меня был куплен билет на поезд в «большой город» – город моей мечты.
Ты знал меня девушкой, но не знал, или не хотел знать, что детская любовь прошла вместе с детством, как это часто и бывает.
Ты знал меня женщиной. Яркой. Цветущей. Счастливой. А я тебя, полуспившегося бомжеватого мужика с топорным лицом, совсем не хотела знать. Не твоего я поля ягодка! Извини...
В ТО ЛЕТО...
1
В то лето ей исполнилось двенадцать. В день рожденья она вышла на улицу к подругам в красном декольтированном на впалой груди платье с гордо поднятым веснушчатым носом, внутри клокотало от радости: «Я уже не ребенок, я – подросток». А потом прокатилась на велосипеде... не выдержала... и платье, декольтированное, с рюшечками, не помешало.
Каждый ее день был днем формировавшейся женщины. Однажды, моясь в бане, она заметила на лобке предательский черный волосок... Что это? Почему? Схватила старую, заржавевшую папину бритву – долой его. Но волосок оказался очень вредным: через четыре дня появился и прихватил с собой еще трех кучерявых друзей. А потом появилось целое полчище... бесстыжих волосиков. Наташка смирилась с этим, но появилась другая проблема. Розовые сосочки опухли, будто в них образовалось шариковидное уплотнение. Еще одна боль детской головки! Однажды вечером, когда младшие братья уснули, она подслушала на кухне разговор отца с матерью:
– Колькя, у Зорьки-то, у коровы нашей, опухоль в вымени появилась. Не рак ли?! И, кажись, растеть, молока в подойнике кот наплакал...
– Мань, ды ты вазелинчиком, авось помогет!
Наташка вся затряслась: «И у меня опухоль... как у Зорьки... Рак!!!»
На следующий день стащила у матери вазелин и исправно, утром и вечером, мазала грудь. Но самолечение, видно, не помогало. Опухоль увеличивалась так же, как и у пестротелой буренки. Корову сдали на убой. Наташка тоже приготовилась к роковому дню. Все симптомы говорили о скорой смерти: слабость, головокружение... и еще... кровотечение. Вернувшись с огорода, где пропалывала картошку, почувствовала себя плохо, живот грызла боль, что глаза лезли из орбит. Решила прилечь. Раздеваясь заметила на трусиках запекшуюся черную кровь. Это конец! Написала прощальное письмо-завещание родителям и братьям. Но ни вечером, ни на следующий день не умерла, через неделю кровотечение закончилось, боли перестали мучить. Опухоль увеличилась до «нулевого размера лифчика», так мама сказала, открывая старый полотняной шкаф, откуда достала свой первый бюстгалтер нежно-голубого цвета. И тут Наташка поняла, что она стала даже не подростком, она стала девушкой... И у нее на теле все так же, как у мамы.
Осенью, когда зацвели астры и в школах прозвенел первый звонок, Наташка встретилась с подругами-одноклассницами, через белые кофточки которых тоже просвечивали маленькие кружевные лифчики. Они-то и рассказали девушке о кровотечении, именуемом месячными. Жизнь продолжалась. Шок от мыслей о смерти пролетел вместе со знойным летом.
2
В то лето ей исполнилось тринадцать лет. Она спешила на велосипеде к отцу, который пас коз, горячим борщиком его покормить да сменить на пару часов, пока стадо, наевшись и напившись, лежало на тырле. Отец улыбнулся черными усами:
– Вадимка щас свое стадо коров пригонить!
Наташка вспыхнула: откуда батя знает, что этот солнечный мальчик, любимец всех девчонок в школе, и ей нравится. Поборов смущение, сказала:
– Ничего, лишь бы коз не разогнал, а то как я одна стадо соберу?!
Отец, пообедав, уехал. Она спустилась к реке. Лягушки квакали. На воде еле заметно колыхались белые лилии и кувшинки. Наташка подхватила легкое платье и зашла в отрезвляющую голубизну, утопившую облака. Протянула руку, чтобы сорвать солнце, но... «нет, не буду все равно завянет , пока привезу домой...»
Села на камень, раскрыла книгу... Лермонтов... «Вадим»... Не читалось, глаза слипались от солнца, мысли вертелись около другого Вадима.
– И чево ты здесь, как кочка, сидишь? И на самом пекле... – она обернулась. Он, такой красивый и сильный, возвышался на вороном коне. А волосы, кудрявые, рыжие, спорили с самим солнцем.
– Пойдем в будку, я там собаке намордник шью...
Она покорно пошла. Рыжий пес лизнул ее ногу, дружелюбно виляя хвостом.
Будка, КАМАЗовская облезлая кабина, возвышалась на взгорье над речушкой Светлой. Внутри устлана душистой соломой. Он сел с одной стороны кабины, она – с другой... смотрели в разные стороны. Стадо отдыхало, иногда некоторые из коз фыркали, вставали и снова ложились. Жжужали мухи, распаренные солнцем.
– А ты че на улицу вечером не ходишь?
– Куда?
– Мы собираемся около Варькина сада... Придешь, а?
– Не-а... как я родителям скажу?...
– Приходи... на мопеде покатаемся, в поле тушканчиков погоняем. Знаешь, как интересно?!
Сердце забилось зайчонком: «Он приглашает меня на свидание! Но я не смогу...»
– Придешь? – переспросил Вадим, как бы между прочим, продолжая шить намордник.
– Может быть...
Вдалеке показался отец на мотоцикле. Наташка испуганно выпрыгнула из будки. «Не отпустит он меня!» – тоскливо подумала.
3
Все валилось из рук. «Как сказать родичам, что вечером пригласили на свидание?» С трудом дождалась девяти часов, отец пригнал стадо. Вот он, наступил тот момент!
Наташка нажарила на сливках картошки, посыпала укропом. Все сели ужинать. Ей же кусок в горло не лез, руки, ноги тряслись, все тело горело в лихорадке. Во время ужина ничего не сказала. А время шло... скоро десять... Небо потемнело, прохладный вечерний ветерок засуетился в кудряшках деревьев. Отец курил на веранде.
– Пап, можно я пойду на улицу?... Меня пригласили... На чуть-чуть...
Он нахмурился. «Разозлился», – екнуло сердечко.
– Нет... нечево там делать, нечево шляться, где попало!
Наташка моментально изменилась в лице, заревела в голос, как ребенок, бросилась в свою комнату. Мир взрослых жесток! Не хотят они понимать нежные чувства своих чад, не выгодно это им!
– Ну чево ты воешь, как шавка по кобелям! – рявкнул батя. Наташа замолчала, решительно встала и, ничего не говоря, натянула на себя выходную юбку, вязаную, в зелено-красную полосочку, спешно застегнула тонкую блузку. Направилась к двери. Отец резко схватил ее за локоть и швырнул на диван:
– Ты куды, малолетняя зараза, собралась? Отца рОдного решила ослушаться? Быстро... в комнату! Чево зенки таращишь? – лицо мужчины побагровело, покрылось синими пятнами, как часто бывало, когда он напивался...
– Если ТЫ меня не отпустишь и еще хотя бы раз в жизни оскорбишь, я отравлюсь и напишу записку, что ты меня довел до этого, – Наташка впервые в жизни была так решительна. Оттолкнув отца, она вышла, демонстративно хлопнув дверью.
Свежесть ночи облегчила легкие. Девушка задыхалась. То ли от возмущения, то ли от волнения. Она не замечала, как слезы молниеностно стекали по щекам и падали на новую блузку, она шла быстрыми шагами. В темноту. К Варвариному саду.
Ее слух ласкали звуки гитары и чьего-то бархатного голоса, доносившиеся издалека. Луна, круглая, желтая, играла в деревьях с сонными птицами, будоражила лягушек в заросшем пруду. А за рекой... за уснувшей или замершей в созерцании ночи рекой одинокий соловей пел вечную песнь о несчастной любви... Прекрасна деревенская ночь! Именно в такую ночь хочется умереть... и неважно от чего: от счастья ли или от горя!
Но Наташа знала, что она не умрет... не умрет из-за глупого непонимания ее родителями. Она – это Она, пусть она одна, но одиночество либо заставляет душевно гнить человека, отвратительно, медленно, либо закаляет, наполняет агрессивной силой, желающей доказать свое большое «Я» и готовой ради этого смешать небо с землей.
4
Прежде чем подойти к молодой компании, она затаилась за углом мрачного дома. Кто там? Голоса смешались в веселый гул, разрывающий уши своей полигамностью. Нет-нет... ветерок донес знакомый сленг одноклассника – мальчишки странного, «из неполноценной семьи», так все говорили. Мамаша его работала продавцом в сельском гастрономе, но постоянно напивалась в стельку. А однажды, когда народ толпился в магазине, ожидая приезда хлебовозки, тетя Зина вынесла лоханку, поставила и помочилась у всех на виду. Это был предел. Ее уволили. И она уже пила безвылазно из постели. Алешка, ее сын, на деньги, заработанные на каникулах собственным горбом, покупал ей мерзкую, отравляющую жидкость. Он не мог поступать иначе: пусть лучше напьется и спит, чем валяется, раскорячившись, на улице под забором. Его руки постоянно тряслись. Наташке жалко его было: она всегда давала ему списывать контрольные по математике.
Рядом с Алешкой примостилась на пеньке Ольга, тоже одноклассница. Все считали, что у ее отца не все в порядке с головой. Будто он помешался после Афгана, а мать, пользуясь положением, переспала со всем колхозом... не за просто так... Платили кто чем может: кто мешком муки, кто картошкой, а кто бутылкой самогонки... О существовании Оли давно забыли.
Остальные ребята были не совсем знакомы, но все из Наташкиной школы.
Она выступила из темноты в игривый свет костра.
– И кто это идет?! – раздались радостные возгласы. – У нас новые лица... Привет, Нат!
– Чтобы вписаться в нашу компашку, ты должна пройти боевое крещение, – наигранно-грозно сказал Алешка. – Сначала опрокинь стопарик нашей, местной, а потом ай-да в сад с нами, за грушами и тыблаками... но там дед из ружья солью стреляет... Штаны не испачкаешь?
Наташка отрицательно замотала головой. Взяла рюмку и махом выпила. Раскаленная жидкость пробежала по языку, обволокла горло, пролилась ниже горящей дорожкой.
– Огурчик возьми, – пролепетала Оля.
Наташа порывисто схватила скользкий огурец, хрумкнула... И хихикнула... Это была первая в ее жизни рюмка водки.
Сад пугал своей мрачностью и мертвой тишиной, будто вымерли все ночные пташки. Ребята гуськом прошли в темное царство. Алешка рукой указал на развесистое яблоневое дерево. Кто-то взобрался по шершавому стволу и потряс ветку, яблоки частым градом просыпались на землю. И на спины и головы ребят, тишину разрезали охи. Сумки не успели набрать: поблизости послышались тяжелое дыхание и зычная ругань. Дед с ружьем!!!
Вылазка прошла почти благополучно, без раненых, но и без трофея.
5
Небо залилось нежным румянцем, обрывки темных облачных городов скрылись за горизонтом. И горластые петухи прокричали, приветствуя утро.
Наташа, позевывая, еле плелась домой. Свидания не получилось: Ольга сказала, что Вадим уехал гонять тушканчиков с братом Женькой. Расстроилась ли?! Нисколько... Прошедшая ночь стала значительным шагом в ее маленько-взрослой жизни.
Вот и ее дом со спящим глазом – закрытой выгоревшей ставней. Наташа толкнула дверь, дверь подалась и со скрипом открыла свою пасть. На веранде сидел отец, положив на кулак тяжелую голову на бычьей шее. Рядом бутыль «Пшеничной»...
– Явилась?! – прорычал он, то ли спрашивая, то ли констатируя факт. – Щас я как сниму ремень, ты у меня подрыгаешься...
– Да пошел ты ... – сплюнула на пол Наташка, проходя мимо.
В то лето она стала самым взрослым человеком в мире!
ПИСЬМА НАШЕГО ВРЕМЕНИ
«Я к вам пишу – чего же боле?/ Что я могу еще сказать?/Теперь, я знаю, в вашей воле/ Меня презреньем наказать». Кому не известно письмо Татьяны Лариной к Евгению Онегину?! Именно с него я хотела начать свои размышления о письмах нашего времени – времени открытий и новых технологий.
Письмо – это, казалось бы, просто бумага с написанным на ней текстом, посылаемая кому-либо для передачи информации или для общения с нужными для нас людьми. Но не все просто так. Обдумывая и пережевывая текст, мы столько переживаний вкладываем в письмо: это любовь и грусть, душевное тепло и неприязненная холодность, светлая радость и негодование. Исписанный лист хранит на себе вашу энергию и запах (сколько раз девушки капали на конвертик свои любимые духи, чтобы милый друг вспомнил их аромат?!). Письма хранили у сердца и перечитывали время от времени, будоража нежные чувства. Размышляя, я не могу не вспомнить послания моего старого друга и лучшего учителя Виктора Ростокина. Это были маленькие листочки с неразборчивым мельким почерком, на которых он хвалил мои творческие труды или разбивал все в пух и прах. Но не в этом дело, это были листочки, «величиною с его сердце», как говорил этот мудрый человек. Прочитал письмо- и будто пообщался с дорогим тебе человеком, прикоснулся к его святой душе.
В эпоху, когда письма перевозились «тройками» или в почтовых дилижансах, они писались длинно, неторопливо, сердечно, с таким расчетом, что драгоценное письмо, преодолев не один километр, сократит расстояние и заменит, хоть в малой степени, личную встречу. В культурном обиходе человечества, к счастью, сохранились замечательные памятники письма. Это переписка Честерфильда с сыном, Вольтера с мадам де Севинье, Герцена с женой, Достоевского с братом... В двадцатом же веке телеграф, телефон и интернет упростили дело. Письмо потеряло смысл незаменимого средства общения, отошло на второй план и почти забылось. Да и люди изменились. Стали черствее, холоднее и замкнутее. Пара строчек по электронной почте – для родных это достаточно, чтобы знать, что мы живы-здоровы. Но достаточно ли?! Я каждую неделю перезваниваюсь с мамой, но отчего же она постоянно спрашивает: «А почему не пишешь? Все ли у тебя в порядке?» И каждый вечер с надеждой проверяет огромный «советский» почтовый ящик на стене дома. По количеству писем она делает мрачные выводы, не спит ночами, переживая, и молится, молится, молится. Совестно. Но наш мобильный век заставляет жить по другому. И мало кто сейчас «в забвеньи шепчет наизусть письмо для милого героя», вновь цитирую Пушкина, в устах которого когда-то прозвучало определение – «почтовая проза».
Мы отреклись от наших душ, а это причина многих мрачных и трагических событий нашего времени.
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Она, легкая, призрачная, сидела рядом с Ним, понурив голову. Озорной ветерок обнимал ее, проходил сквозь нее, но она была неподвижна, как марево над спящим озером. Она сидела рядом с Ним... Оплакивала ли?! Может... Ей было жаль покидать Его, было трудно прощаться с этой мучительной, но дорогой, жизнью...
Самой обычной грязной весной в самое обычное воскресенье самая обычная «скорая помощь» подъехала к зданиям № 15 и № 17 по улице N. Из машины выбежало несколько мужчин в белых и не совсем белых халатах, оглядевшись по сторонам, вытащили из «скорой» сверток внушительных размеров. Один из медбратьев постелил под раскидистым лысым деревом куски картона – отходы ближайшего магазина, куда и сбросили «подарок».
Машина резко сорвалась с места, куски липкой грязи разлетелись по сторонам, и скрылась в Небытие.
Она сидела рядом с Ним и листала летопись жизни...
Детство, юность – это самое нежное счастье... Женщина ласково обнимает хрупкого мальчика с огромными сливовыми глазами. Подходит мужчина, отец, берет ребенка и подбрасывает в воздух. Алик смеется, заливается, как колокольчик. Мать и отец тоже смеются. Самые яркие впечатления жизни!
Первый прыщик на носу и первая любовь. Застенчивые взгляды из под длинных черных ресниц. Робкое молчание и кусание губ.
Зрелость... Женитьба на школьной красавице, первенец, красный и пищящий, за ним второй... Дальше Карабах, кровавые слезы потерь, сила духа и соль на губах: «За родную землю!» Потом смерть после ада... Именно Смерть (когда на глазах умирают друзья, один за другим, как солдатики, но не в детской игре, а ты один остаешься... ) Терзания совести азатамартика*: «Почему именно Я?» Подросшие дети – огоньки в мрачном окне. Кажется, ожил, сыновья радовали успехами в институте... Потом гнездо опустело: уехали мальчики российскую столицу покорять... И началось... «Катись ты к чертовой бабушке,- визги жены.- Достало твое самолечение «психологических травм». Сумка с жалким тряпьишком и бутылка полетели вослед Алику. Жена поставила железную дверь с новыми замками и «Good bye, Armenia!», скрылась в неизвестном направлении... Хотя... почему в неизвестном?! Она всегда мечтала пожить заграницей – семья мешала, а сейчас...
Тяжела жизнь бомжа, особенно зимой в неотапливаемом городе. Вот в Москве – это другое дело, там вокзалы, подъезды и мать-теплотрасса – спасение. Спал бывший азатамартик в ледяной сказке парков, где и отморозил ноги... Около семи месяцев находился в Ожоговом центре после ампутации ног, а потом его перевели в другую больницу, на его место кинули еще одного калеку... Другой больницей называлась скамейка возле больницы, так как свободных мест не оказалось. Просидел-прополулежал Алик на оной немало выматывающих часов, тело болело от несостоятельности, кости ныли от холода, душа болела от мучительной ненужности... К вечеру одна из медсестер, нежное существо, сжалилась – разрешила погреться и подремать в коридоре больницы, даже чашечку обжигающего кофе с булочкой принесла. Да хранит ее Бог! Он прижался к батарее, к горячей, восхитительно горячей батарее, в полудреме цитируя любимого Коллинза: «Человеческая жизнь есть нечто вроде мишени, в которую несчастье стреляет беспрестанно и всегда попадает в цель...». «Видать, так на судьбе мне писано...», – мысли путались, но уснул он с ощущением всепроникающего света. Для человека, истерзанного, изгрызанного несчастьем даже капелька счастья – огромное море. Он умел ценить эти мгновения... и улыбался во сне.
Утром Алика отправили в Дом престарелых, но и там не оказалось свободных мест. Сказали: «Ждите, пока кто-нибудь помрет...». Цинизм слов когтями резанул по сердцу. Смысл спорил с рассудком. «...Есть правда, которая, падая на голову человека, как камень, убивает в нем желание жить...»** Он не хотел больше жить...
Азатамартика оставили на скамье... ждать чьей-то смерти... Воробьи чирикали, склевывая шелуху от семечек, первые невинные лучики солнца лизали пожухлую прошлогоднюю листву. Когда мы одиноки, бедны и нуждаемся в помощи, то становимся никому ненужными.
Алик дремал, когда подъехала машина «скорой помощи». Погрузили... Куда теперь?!
– В больницу. Куда ж еще тебя, урода..., – прогремел мужик в белом халате с огромными волосатыми руками мясника – головореза. А правильно ли, сударь, Вы выбрали свое предназначение?! Правильно-правильно... А вообще, не твое собачье дело... Тонкая игла ворвалась в вену...
Самой обычной грязной весной в самое обычное воскресенье самая обычная «скорая помощь» подъехала к зданиям № 15 и № 17 по улице N. Из машины выбежало несколько мужчин в белых и не совсем белых халатах, оглядевшись по сторонам, вытащили из «скорой» сверток внушительных размеров. Один из медбратьев постелил под раскидистым лысым деревом куски картона – отходы ближайшего магазина, куда и сбросили «подарок».
Через какое-то время «подарок» зашевелился, что-то прохрипел и затих... Навсегда...
Она, легкая, призрачная, сидела рядом с Ним, понурив голову. Озорной ветерок обнимал ее, проходил сквозь нее, но она была неподвижна, как марево над спящим озером. Она сидела рядом с Ним. Она – Его Святая Душа...
В город ворвалась ночь. «...Луна освещала мертвые трупы. Нет слов для такого избытка смерти. Дурные звезды стоят над этим домом. Мир никогда не наступит. Ибо язык (и деяния наши – авт.) не содержАтся в чистоте...»***
___________________________________________
*Азатамартик (арм.) – борец за свободу
** М. Горький «Еще о черте»
*** Г. Грасс «Встреча в Тельгте» (прим. авт.)
ВЕДЬМА
Я спускаюсь по горному склону, легкие камушки убегают из под моих ног. Игриво... Вприпрыжку... Низкое, отравляющее солнце слепит глаза. Сердце бьет в колокол – что-то случится... Ужасное... Скоро...
Рев крутого водопада неожиданно врывается в уши. Как долго я была в своих думах, что не услышали издали этого гиганта?! Может, вечность или долю секунды?! Вода пенится, бурлит, рычит, оскаливаясь лысыми серыми камнями. Выпустить этого зверя из клетки – сметет все живое. Что это? В воде, дразня разноцветием, кружатся детские платьица, бантики, сумочки, туфельки, книжицы, тетрадки, ручки, карандаши... Все, что было дорого мне в той розовой стране.
Поднимаю уставшие глаза – над обрывом стоит Она. Длинные седые волосы и рваные одежды дразнят ветер... Она трясется. От холода? Вряд ли... +30... Он трясется от злого, убийственного смеха, который врывается в меня раскаленной лавой. Я бьюсь в судорогах. Не просыпаться бы – быть беде.
ПОРЫВ
Находясь в поре студенчества, я часто ездила домой из Москвы в общем вагоне. Ну что, что двадцать восемь часов без всяких условий и, может быть, стоя или сидя на чьих-то баулах, за то люди там беднее, но проще, душевнее и разговоры интереснее – откровенные, о жизни. Такое попутчики понарасскажут, что и «Моей Семье» во сто лет не выдумать.
Зима. Несколько часов до отправки поезда. Я бродила по опустевшему городу с зажатыми десятью рублями в ладошке. Хотелось плакать: разве я могу на эти деньги купить подарки маме, папе, брату, сестре? Конечно, они не ждут подарков, они ждут меня... Но все равно... так хочется... Мысли свинцовы. Мегаполис зовет, но никогда не раскрывает объятий для чужаков. На мне шуба из гималайского волка, но в одном кармане прореха, а другом пупсик в платьице, которое я сшила в первом классе. Шуба – не показатель достатка. Просто дядя подарил подешевке – тете новую купили. Весь мой багаж со мной, в пакетике. Поеду лучше на вокзал... не за чем душу терзать, проходя мимо красочных витрин с огоньками и дедморозиками. Сяду в поезд, а там... чуть больше суток – и дома, где готовится утка с яблоками, пахнет блинами, мандаринами и шоколадными конфетами. И елкой, настоящей елкой, которую папа накануне из леса привез... на санях. Грязно-снежная каша противно облепила сапоги. А у нас там, на краю света, снег – бел и скрипуч, воздух -прозрачен и ароматен, небо – выше и чище. Прочь, прочь отсюда. Увези меня, поезд!
Посадка была только объявлена, но первый вагон был уже забит до отказа – перед Новым годом все спешат домой. Крики, ругань, неизменный запах селедки и водки – кто нашел себе сидячее местечко, уже успел столик накрыть и откупорить бутылку. Мужичок, щупленький, потрепанный, в фуфайке, по-джентельменски подвинулся, приглашая к столу:
– Садись, доча! Потеснимся – не помрем...
– Спасибо! – сказала я, благодарно улыбаясь.
– Попробуешь сэма? Или... нет, мала еще. Мы тебе «Рябиновой» плеснем.
Пить было противно, но нужно отдать дань гостеприимству. Попутчик руками почистил «мундир», порезал огурчик. Налил в жестяную кружку вспенившийся приторно-сладкий крепкий чай. Не отказалась от угощения – голодна.
Не заметила, как поезд дернулся и устремился в голубую даль. Кто-то там, за окном, плакал, махал руками, что-то кричал на прощание. В вагоне стало жарко от топки и многолюдности. Щеки горели то ли от жары, то ли от выпитого. Я сняла «волка», повесила на крючок на стене. Мужик тараторил, тараторил, я не все улавливала, но основное поняла – тюремщик он, отбыл свой очередной срок, едет домой. На долго ли? – не знает. Но что есть дом, где никто тебя не ждет?!
– А ты давай, приезжай ко мне с родителями, с друзьями, живите у меня, сколько хотите. Адресок запиши...
Я вытащила ручку и листок. Написала. Не знаю, из вежливости или просто так. Или хотелось дать пожилому человеку надежду, что он не будет одинок в этом мире. Приехать я, может быть, не приехала, но решила отправлять по адресу к праздникам открытки.
За что сидел – язык не поворачивался спросить. Он, уловив мою мысль, сказал:
– Когда-то я был часовых дел мастер. Потом попался на воровстве отсидел, а потом снова и снова... И в тюрьме чинил часы. Ведь часы – это такая штука... как наш внутренний двигатель. А как радостно мне, когда они молчат, молчат, стрелки повисли, а потом – тик-так, тик-так, тик-так... И жизнь вернулась...
Значит... вор? Но стоит ли из-за этого презирать человека? Я продолжала сидеть рядом с ним. Мужик замолчал, хмель начал одолевать его, глаза затуманились. Он задремал. Чужой сладкий сон так заразителен. Да еще дорога – длинная, нудная... Сквозь объятья ресниц было видно, как суетились люди, ходили туда-сюда, проводница объявляла станцию, кто-то ругался, пищали дети... А вот с детьми в таких вагонах не стоит ездить, жалко их, малюток, – думалось мне. И... я бегу, бегу по ослепительному снегу, снежинки вальсируют и падают мне на лицо, я смеюсь, так заразительно, что деревья начинают перешептываться и скрипуче подсмеиваться надо мной. Я падаю в сугроб, встаю, снова падаю... и смеюсь... Вот оно – счастье! Такое же хрупкое, как снежинки.
– Ах ты, сволочь такая! Да как же тебе не стыдно-то, у девчонки-то... Да я ж тебя сейчас размажу по этой стене! – ворвалось в мое сознание и я проснулась.
– Что, что происходит?
– Да эта морда цыганская шубу-то твою – в сумку и понесла... Еле отобрал... Давай шуруй отседа, пока я тебя...
Я была так растеряна. Взяла шубу, одела и села... молча...
На станции меня встречали мама и папа. Я вывалилась в их объятья. Говорили, говорили, говорили, от радости все перемешалась в голове. Поезд проревел и тронулся. Я вздрогнула, посмотрела на окна – он, потрепанный и мрачный, махал мне рукой. Махал так трогательно-робко... как ребенок. Почему «как»? В тот день он был новорожденным шестидесятилетним ребенком в этом мире. И впереди – чистая гладь жизни... напиши что-нибудь... но не ставь кляксу...
Папа взял мой пакет и мы пошли к «уазику». Машина фыркнула и завелась. Десять минут до дома.
После расцеловываний-обниманий, я решила разложить свои пожитки. Платье... свитер...книга... часы... часы... часы... еще часы... В кармане шубы – часы... часы... часы... Часы?
Приложила к уху – тик-так, тик-так, тик-так... Поезд ушел, а жизнь продолжалась...
МАЛЕНЬКАЯ МАМА
Олечка, девочка лет шести-семи от роду, проснулась с чувством, полным осознания своего предназначения в этом мире: она женщина, она будущая мать. Боже, как, наверно, приятно держать в руках маленький теплый комочек, смотреть глаза в глаза и без слов понимать друг друга.
Скучно бродила по двору. Пнула поднадоевшую кошку, передразнила, оскалившись, пса. «Как долго ждать того дня, когда я стану мамой?» Затосковала...
Уселась на вязанку дров. Чирик-чирик, чирик-чирик... Воробьиха с червячком в клюве повисла на карнизе сарая – желтый ротик порывисто выхватил пищу. Воробьиха-мать улетела.
Олечка встрепенулась, с трудом передвинула скрипучую лестницу к сараю, вскарабкалась. Рука утонула в отверстии шифера, нащупала что-то маленькое, нежное...
«Вот он – мой ребеночек», – возликовала девочка. Побежала домой, завернула воробьенка в тряпочку, напоила водой, дала пшеничное зернышко.
Засыпая, она думала о своем малыше, как на заре его накормит, поведет гулять, расскажет новый стишок.
Утром обнаружила бездыханное синенькое тельце. Ротик открыт и глазки застекленели. Заплакала. Сделала гробик из коробки, похоронила малютку, поставила крестик и... взобравшись по лестнице, достала еще одного ворбьенка.
К вечеру и он умер.
Откровение жизни и смерти шокировало девочку. Два желания терзали сущность Олечки: первое, жестокое, детское – доставать снова и снова птенчиков, пока не удастся усыновление-удочерение; второе, опасливое, взрослое – никогда не иметь детей: а вдруг они умрут или кто-то их украдет, как она у воробьихи...
А мама покупала шоколадки в шуршащих красивых фантиках, игрушки и никак не могла понять печали дочки. Отчего эта складка над курносым детским носиком?!
ИНСТИНКТ
Мы сидели в уютной кухне за столом, застеленным милой скатеркой в клеточку. Люблю бублики с чаем, забеленным молоком. Она это всегда помнила и помнит. Сколько мы не виделись?! Наверно, дня три, но уже соскучились. Мы такие разные: она – неумолимо печальная, как Пьеро (уголки ее губ и глаз опущены) и я – безудержно веселая. Наше сочетание, слияние делало из нас одного нормального, полноценного человека. Вновь вечер воспоминаний... Когда-то, несколько лет назад, на первом занятии в полигафическом колледже я увидела девушку. Брюнетка с ахматовской челкой, гордый нос, молчаливый бутон губ. Меня поразила ее святая грусть. Я дружелюбно улыбнулась – уголки ее губ приподнялись. С этого дня мы не разлучались. Я зажигала ее – она гасила меня. И нам было хорошо вместе.
Я прервала беседу... Пропасть ностальгии глубока и никогда не знаешь, что там, на дне.
– Рябыч, мне пора!
– Шуваич, куда тебе спешить, ведь тебя никто не ждет дома?! Оставайся ночевать...
– Не-а, не могу...
– Почему?
– Меня ждет Он!
– Кто Он? – удивилась она... три дня назад Его не было в моей жизни.
– Кот... белый, персидский.
– Обрела смысл? – как всегда съязвила она.
– Что-то вроде...
По дороге запаслась резкопахнущим кошачьим кормом – путь к сердцу мужчины... Молчу... Банально, понимаю...
Я знаю, Он встрепенулся, когда ключ заскулил в замке, напрягся.
Виновато посмотрела ему в глаза.
– Ну где ты шлялась? – промяукал Он, перебирая когтями ворсинки ковра. Страшно... «Сейчас прыгнет на колени, вытянется и будет любить больно и сладко: положит когтистую лапку на плечо, смачно впиявится, пронзая тонкую кожу. Лизнет в нос розовым шершавым язычком... И все простит...»
Он любил меня, наверно, так, как любит мужчина женщину. И я его... но как одинокая женщина любит котенка. Он хотел завладеть всем моим существованием, просил, чтобы я приходила на обед домой, ласкала его, умолял, чтобы вечером не задерживалась. Ему нравилось, когда я с ним разговаривала, рассказывала, как провела день и читала стихи: Он внимательно, не моргая, слушал и мурчал от удовольствия.
Ему не нравилось, когда наша квартира наполнялась гостями: женщин Он еще кое-как терпел, понимал, что слабому полу требуется потрепаться... это не помешает нашей семейной идиллии. Он тихонько хоронился в другой комнате, закрывал дверь – не подслушивал. А вот мужчин терпеть не мог: ходил, рычал, драл шерсть, кусался и писал в ботинки гостя. Я нервничала, ругалась с ним, плакала. Он утешал меня – пил росинки с моих глаз, гладил меня. И мы засыпали, успокоенные, но отнюдь не счастливые.
...Я все чаще задерживалась на работе, не звонила. Меня стал раздражать его запах, едкий, отравляющий, его навязчивая эгоистичная любовь. «Выгнать его?! Нет, не могу...»
Однажды проснулась в лихорадке – «если я не избавлюсь от него – умру!»
Непослушными руками набрала знакомый номер:
– Ты Его любишь?!
– Люблю, – робкий ответ.
– Забери его... Я не хочу умереть в этом омуте...
Теперь... я чаще прихожу к ней. Мы пьем чай, беленый молоком, с бубликами. Он рядом – молчалив и печален, как и она. Наши взгляды встречаются и возвращаются эхом пустоты. Но порой Он презрительно фыркает и удаляется в другую комнату.
Ухожу домой в мокрых туфлях – его запах продолжает меня преследовать.
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Ангел, белый и нежный, парил над страною. Иногда улыбался, но больше проливал слезы, которые дождем падали в гниющие листья, из-под которых кое-где боязливо выглядывала последняя зелень. В воздухе витал запах осени, наступающих на пятки холодов и какого-то ужасающего несчастья. По лесу бродили взбудораженные мужики с ружьями – кого бы пристрелить, как-никак охотничий сезон начался.
Носик у ангела покраснел, крылышки взмокли. Силы явно покидали его. «Нужно бы спуститься, погреться у костра», – подумал он.
– Вась, а Вась, гляди, эка невиданна птица к нам лятит?!
– Ды ты стряляй, стряляй же, потом рассмотрим.
От выстрела вздрогнули деревья и сбросили свои последние листочки. Ангел завальсировал в воздухе... Красные росинки рассыпались по лесу, по лугу, по полю. Люди тянули к небу ладошки и ловили их, смеясь и кружась в дьявольском танце. «Счастливцев» оказалось немало – у многих руки были в крови. А страна осталась без ангела-хранителя.
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ-2
Ангел, белый и нежный, парил над страною. Иногда улыбался, но больше проливал слезы, которые дождем падали в гниющие листья, из-под которых кое-где боязливо выглядывала последняя зелень. В воздухе витал запах осени, наступающих на пятки холодов и какого-то ужасающего несчастья. По лесу бродили взбудораженные мужики с ружьями – кого бы пристрелить, как-никак охотничий сезон начался.
Носик у ангела покраснел, крылышки взмокли. Силы явно покидали его. «Нужно бы спуститься, погреться у костра», – подумал он.
– Вась, а Вась, гляди, эка невиданна птица к нам лятит?!
– Ды ты стряляй, стряляй же, потом рассмотрим.
От выстрела вздрогнули деревья и сбросили свои последние листочки. Ангел завальсировал в воздухе, спускаясь к мужикам, потиравшим руки от предвкушения «встречи» с добычей. И чем отчетливее было видно белоснежное чудо, тем комичнее становились лица горе-охотников. Пролетая над головой одного из мужиков, ангел, хохотнув, дернул его за чуб: «Эх, дурак ты, Вася, д у р а к, хотел целую страну лишить ангела!»
БЫЛЬ ИЛИ НЕБЫЛЬ
Если по деревне пустить слушок, который пройдет через десятки-сотни уст, то потом никогда точно и не узнаешь, имело ли все сказанное место в реальной жизни или нет.
Поговаривали, что около старой разрушенной церквушки, где днями таинственно ворковали голуби, а ночами шушукались, иногда взвизгивая, крысы, есть могила одного молодца, которой, как бы не соврать, лет триста... В ту пору здесь и церкви не было – пустырь-пустырем... Похоронили молодца далече от кладбища, так как самоубийцам там не место, иначе народ такой бы гвалт поднял. Рядом посадили ивушку-вопленицу, которая в тоске и засохла спустя какое-то время.
А парень был красоты неописуемой, силы недюженной, на радость отцу и матери. С раннего утра, выпив кувшин парного молока с краюхой хлеба, бодро шел в поле, напевая что-то грудным, приятным голосом. Работал в поте лица, а в самый солнцепёк, отобедав харчами, сложенными в узелок заботливой материнской рукой, спал молодецким сном под раскидистым кряхтуном-дубом. И не было силы, могущей потревожить его крепкий сон...
Проснувшись, продолжал начатую работу до самых сумерек, когда уже невозможно отличить сорняк от картофельного кустика. По дороге домой сворачивал к речке Тростянке, чтобы окунуться с прозрачную гладь с дрожащим отражением лунного мостика, смыть с себя легкую усталось и вобрать природную, волшебную силу. Холодная водица, с множеством придонных родничков, бодрит, радует...
Дома переодевшись, отужинав с отцом и матушкой, поспешал к своей любоньке-Ганюшке, которая жила в другом конце деревни. Окошко открыто, ветер треплет занавеску... Молодец, перепрыгнув через калитку, тихонько свистит, чтоб батя не услышал, а то не пустит на ночь глядя, запрёт дома Ганю. В окошке появляется юное улыбчивое личико – она ждала, она волновалась. Выбежав на улицу, Ганя обнимает молодца, милует. Всю ночь, до румяного рассвета, они, обнявшись, гуляют, слушают исповедь соловушки, тревожат лесного зверя, будоражат лягушек... А поутру молодец, простившись с любимой, возвращался домой, помогал отцу выгнать скотину на пастбище и ступал в поле.
И казалось бы, в этой истории нет места несчастью, но... Вздумал Ганюшкин отец дочь пристроить повыгоднее – жениха присмотрел побогаче, сговорился-сторговался с ним. Осталось Ганю уговорить... Но батя знал, что уговоры здесь не помогут, поэтому в один день хлопнул по столу кулаком без всяких разговоров – так и сяк, выходишь замуж за Якова. Ганя в слезы... Отец хватил ее за косы и в чулан – на воду и хлеб.
Каждую ночь пробирался к Ганюшкиному окну молодец: закрыто – никто не ждет. Извелся, испечалился... А тут и вовсе – про свадьбу прознал. Не выдержал – порешил себя: в одно утро нашли молодца... хомут на шее – повесился на суке кряхтуна-дуба.
К свадьбе своей Ганя истощала, осунулась. Не осталось и тени игривой улыбки на щеках с ямочками. Шла под венец, как на казнь. А по прошествии года померла при родах вместе с дитятей. Квелой была, хворой...
С тех пор прошло немало лет и зим, и церкву уже поставили и даже частично успели порушить, и деревня разрослась на десятки верст вдоль полноводной Тростянки. Многое изменилось с тех пор, только тоскливая трель соловья под всевидящим лунным оком осталась неизменной.
И вдруг пошли страхи по деревне: девицы из уст в уста пересказывали друг другу о черном незнакомце, который появлялся каждое полнолуние. Заслышит девичий смех, выйдет из мрака церковных руин и зовет так тоскливо: «Ганя, Ганюшка!» А порой подходил, заглядывал в девичье лицо и убегал. И тогда всю ночь эхом раскатывались стенания от церквы до самых полей-лугов. Люди поговаривали, отгоняя свои страхи, что стая волков поселилась в лесу – вот и воют...
Не смею утверждать, быль ли это или небыль, но в период девичества я лично не встречала таинственного незнакомца, то ли ганюшки были уже те, то ли... Да Бог с ним!
ВОРОН И КРЫСА
Под мостом, протянувшемся над некогда бурной рекой Гедар, жили старый Ворон и не менее старая Крыса. И, скорее всего, они не жили, а просто терпели друг друга, взаимно стараясь не замечать присутствия соседа. Ворон частенько сидел на мосту и одним глазом косился на прохожих, пугая их своим облезлым видом и истошными криками. Он любил наблюдать за людьми, такими суетными и непонятными. Куда они спешат? Зачем? Зачем им эти пищащие маленькие дети, которых волочат мимо него в детский сад? Дети... это другой мир... Он прыгал за ними на своей хромой ноге, пытаясь понять, о чём они щебечут, отчего звонко смеются, обнимаются, а потом толкаются и убегают, догоняя друг друга?!
К вечеру Ворон прятался под мостом в каменной выбоине. Дом его нельзя было назвать гнездом, просто углубление в камне. Летом там было приятно, прохладно. Легкий холодок шёл и от говорливой реки. А зимой – зябко. Ворон ёжился, поджимая под себя крючковатые лапки, прятал голову под общипанное крыло. «Скорее бы утро, на солнце погреюсь»...
Всю жизнь он прожил одиночкой, не осознавая важности любви к ближнему. Он любил себя; даже дряхлея любил себя. С интересом рассматривал свое отражение в воде и думал: «Вся красота воронья – в мерзости, в мерзких поступках. Сделай больше гадостей и да воздастся тебе, Ворон!»
По молодости он летал в ближайшие деревни, долбал маленьких жёлтеньких цыплят, налету выклевывал глаза кошкам и собакам, воровал с верёвок бельё, набрасывался на сумки прохожих и радовался, что его боятся. Он чувствовал себя вороньим Богом.
Постарев, он с трудом взлетал на мост и вся его радость была в том, чтобы напугать проходящих мимо людей; вычисляя наибольшую близость к человеку, он начинал орать хрипло и истошно, не мигая, рассматривал жертву подслеповатым глазом. Как уже было сказано, он любил наблюдать за людьми и особенно за детьми. Его раздражал их шум, в щуплом вороньем тельце росла злость и ненависть, но именно эти чувства были главными и необходимыми в его жизни. Ощущая ненависть, он понимал, что ещё жив.
Крыса суетилась под мостом, шныряя туда-сюда по камням. У неё были свои ходы-лазы в ближайший хлебный магазин, в квартиру парона Гагика и даже в отделение милиции. Где только она не бывала и везде старалась оставить свой след. Её розовый шероховатый хвост мелькал среди булочек, зубы лихорадочно работали, изгрызая всё подряд – и съедобное и не съедобное. Большое, с жёсткой торчащей остью тело ликовало, содрогаясь от радости содеянного. Длинные усики на сморщенной мордочке нервно подёргивались, и Крыса взвизгивала: «Мой век ещё не закончен. Я ещё многое должна сделать!»
Иногда она поднималась на мост, с ненавистью смотрела на людей, пытаясь запомнить их лица, наряды, и думала: «Скоро мы встретимся. Я проберусь в твой дом. Я буду бегать по постелям твоих детей и обнюхивать твою кофейную чашку на столе. Я изгрызу твое лучшее пальто и испорчу всю мебель. А потом по моему следу придут полчища крыс...со всех окраин».
Радуясь своим мыслям, она спускалась под мост и пребывала в течение дня в хорошем настроении.
И торжествовала под мостом, в Царстве Ненависти и Зла полная идиллия. Ворон и Крыса терпели друг друга, чувствуя единство Духа.
Но весной, совершенно отличной от других вёсен, мир будто взорвался разноцветьем и разнотравьем. Небо ослепляло голубизной, солнце целовало и миловало прохожих. Мусор, который годами лежал вдоль змейки-реки, превратился в бутоны неземных цветов, готовые вот-вот вспыхнуть белыми, красными, синими, жёлтыми огоньками.
Ворон ошарашенно вертел головой. Глаз его не мог воспринять бал-маскарад мира, в мозг поступали импульсы раздражения от непонимания происходящего. Он из последних сил рванулся из-под моста, взлетел над тротуаром, каркнул и камнем ударился оземь. Встревоженная Крыса, увидев происходящее, взвизгнула и застыла неподалеку от своего соседа. И лежали они, два камня, мрачные и бесполезные, но и окаменелось их была невечной – подул ветер и просыпались они мелкими песчинками, которым уж никогда не собраться в единое целое.
Пусть сердце твоё, милый друг, полнится любовью и не впускай в него зло и ненависть...
